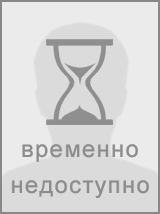– «Он родился на свет с обостренным чувством смешного, – процитировал я,
кивнув на портрет, – и врожденным ощущением того, что мир безумен…».
Я увидел, как он неспешно и уверенно качнул головой, и во мне проснулась
симпатия к нему, чувство, что нас роднит принадлежность к общему делу, и это
чувство, несмотря на все, что случилось в дальнейшем, я сохранил и до сих
пор. Корсо достал откуда-то сигарету без фильтра – такую же мятую, как его
старый плащ и вельветовые брюки. Он вертел сигарету в пальцах и рассматривал
меня сквозь очки в железной оправе, которые косо сидели у него на носу, глядел
из-под упавшей на лоб пряди уже чуть седоватых волос. Другую руку он по-прежнему
держал в кармане, словно сжимал там рукоятку пистолета. Замечу, кстати, что
карманы его напоминали бездонные ямы – чего там только не было! Книги, каталоги
и документы, а еще – о чем я тоже узнал позже – там непременно лежала фляжка с
джином «Болс».
– «…И в этом заключалось все его достояние», – с ходу закончил он цитату,
потом поудобнее устроился в кресле и снова улыбнулся.
*
Корсо почистил зубы, потом разделся, побросав одежду на пол, глянул сквозь
облако пара в зеркало и увидал себя – худого и поджарого, похожего на
отощавшего волка. Опять откуда-то издалека, из прошлого, настиг его укол
тоски, потом сознание захлестнула волна боли, той, что, казалось, уже давно
утихла; словно одновременно и в плоти его, и в памяти задрожала какая-то
струна. Никон. Он вспоминал ее всякий раз, когда расстегивал ремень – ведь
раньше она любила делать это сама, был у них такой странный ритуал. Он закрыл
глаза и вновь увидал ее перед собой: вот она сидит на краю постели, стягивает с
него брюки, потом трусы – медленно, очень медленно, наслаждаясь этим действом
и нежно улыбаясь. Расслабься, Лукас Корсо. Однажды она тайком сфотографировала
его: он спал на спине, лоб пересекала вертикальная морщина, тень пробившейся
за ночь щетины затемняла щеки, и оттого лицо казалось худым, а складка у
полуоткрытых губ – суровой и горькой. Он напоминал изможденного, выбившегося из
сил волка, злобно озирающегося на подушке, похожей на снежную равнину.
Фотография ему не понравилась – он случайно обнаружил ее в кюветке с фиксажем в
ванной комнате, которую Никон использовала как лабораторию. Он разорвал снимок
на мелкие кусочки, негатив тоже, и Никон больше ни разу ни словом не упомянула
об этом эпизоде.
Когда Корсо включил душ и подставил под струи лицо, горячая вода обожгла кожу,
даже векам стало нестерпимо больно, но он, сжав челюсти, напрягшись всем
телом, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, продолжал стоять, хоть и готов
был завыть от тоски и одиночества. Целых четыре года один месяц и двенадцать
дней повторялось одно и то же: из постели Никон тянула его под душ и медленно,
бесконечно медленно намыливала ему спину. И потом нередко прижималась к его
груди, как маленькая девочка, затерявшаяся под дождем. Однажды я уйду, так и
не узнав тебя. Тогда ты станешь вспоминать мои большие темные глаза. Мои
невысказанные упреки. Мои горькие стоны во сне. Мои кошмарные сны, которые ты
не умел прогонять. Вот что ты станешь вспоминать, когда я уйду.
Он уткнулся лбом в белый кафель, усеянный водяными каплями, и подумал, что
это влажное поле слишком похоже на один из кругов ада. Что ж! Ни до Никон, ни
после никто не вел его в душ, не намыливал ему осторожно и нежно спину.
Никогда. Никто. Никогда.
Он вышел из ванной и лег в постель, прихватив «Мемориал Святой Елены». Но
прочел лишь несколько строк:
Возвращаясь к воспоминаниям о войне, Наполеон заметил: «Испанцы в массе своей
вели себя как люди чести…»
В ответ на похвалу Наполеона, сделанную два века тому назад, Корсо скорчил
гримасу. И вспомнил слышанные в детстве слова, их произнес то ли один из его
дедов, то ли отец: «Мы, испанцы, только в одном превосходим других: лучше
всех получаемся на картинах Гойи»… «Люди чести», сказал Наполеон. Корсо подумал
о Варо Борхе с его чековой книжкой, о Флавио Ла Понте, о библиотеках,
доставшихся в наследство вдовам и за бесценок скупленных
букинистами-грабителями.
Подумал о призраке Никон, блуждающем в безлюдье белой пустыни. О себе самом,
готовом служить сторожевым псом тому пастуху, который сильнее и лучше. Что ж,
просто тогда были иные времена.
Он так и уснул – с отчаянной и горькой улыбкой на губах.