Инопланетник в камере. Зарисовка по Венге (продолжение).
Что-то не похоже пока на обещанный бордель, — подумал я, окидывая взглядом
камеру, куда меня отконвоировали и втолкнули две новые амазонки, сменившие
моих прежних «телохранительниц» из кабинета «эсэсовки».
Ни само это здание, куда мы вошли минуту назад, не было похоже на что-то
бордельное, ни внутренний двор, по которому меня вели чуть раньше и где
маячили только женщины в военной форме при полном отсутствии гражданских лиц,
не говоря уже о том, чтобы кто-нибудь из увиденных был подшофе. Я вопросительно
оглянулся на своих конвоиров. Говорить без разрешения запрещалось, но
глазами-то спросить можно было.
Одна из девушек — та, что выглядела постарше — ухмыльнулась в ответ на мой
немой вопрос и бросила со снисходительной небрежностью:
— Посидишь пока здесь, инопланетное недоразумение. В бордель тебя ещё успеют
отправить.
Они вышли, затворив за собой тяжёлую металлическую дверь. Клацнул запираемый
снаружи замок, послышались удаляющиеся шаги обутых в сапоги ног, и всё
стихло.
Опять эта неопределённость. Опять ожидание неивестно чего… Терпи казак, —
мысленно пошутил я над самим собой. Вернее, попробовал пошутить, да не очень
получилось, поскольку в голову лезли всякие мысли. В основном — не самые
весёлые. Уж не пыточная ли это? Да нет, вроде не похоже. Кроме узкого топчана с
синим матрасом и металлического бачка с прицепленной к нему кружкой, в камере
больше ничего не было. Предвариловка, наверное. Или что-нибудь типа
пересыльно-промежуточного пункта. Что же дальше-то будет? Что ждёт меня впереди?
Вера в справедливую и правильную госпожу в образе здешних девушек и женщин едва
теплилась в самой глубине души, подобно крошечному угасающему угольку, который
грозил окончательно потухнуть под слоем холодного пепла… Тоска. Одна тоска с
горьковатым привкусом откровенной, неприкрыто голой и очень неприятной правды,
разрушающей последние иллюзии. Не хочется даже думать о ней, о такой
правде.
Прошёл к единственному окну, чтобы хоть чем-то себя занять, хоть как-то
отвлечься от невесёлых мыслей, которые услужливо подсовывала неизвестность,
неопределённость положения. Окно было расположено по-тюремному высоко. Из него
сквозь решётку видно только небо. Не убежишь. Да и куда бежать, если вся
планета такая? Если вся она живёт той жизнью, с кусочком которой я уже имел
счастье познакомиться. А солнца у них целых три. Как бы в насмешку надо мной.
Солнечная планета. Очень солнечная. Для кого-то. Для кого? Для лучшей половины
их человечества, разумеется.
Вон, кажется, идут представительницы этой лучшей половины. Ненадолго же они
оставили меня в покое. Соскучиться не успел.
Шаги приблизились, снова клацнул отпираемый замок, и в камеру вошли двое:
девушка-конвоир (та, что назвала меня инопланетным недоразумением) и другая,
которая была явно чином повыше. Я вспомнил, что это именно она, другая,
сидела в проходной, вернее в чём-то напоминающем командно-пропускной пункт,
перед которым меня остановили и где одна из прежних
«телохранительниц», передав ей какие-то бумаги, о чём-то негромко
доложила. И именно она, эта сидевшая в КПП старшая по званию, похожая на
дежурного офицера, после нескольких ответов на свои вопросы задержала тогда на
мне любопытный бесцеремонный взгляд, — задержала как на какой-нибудь
диковинной, заинтересовавшей её зверушке, после чего отдала распоряжение уже
новым конвоирам из числа своих подчинённых.
Эта «офицерша» — как мысленно я её окрестил, совершенно не
разбираясь в их венговских знаках различия — чем-то неуловимо напоминала главную
«эсэсовку» из кабинета. Не внешне, а скорее манерой держаться,
хотя её волосы тоже были гладко зачёсаны назад, пусть и собраны не в тугой
узел, а в конский хвост, и тоже были светлыми (похоже, они все тут блондинки,
— подумал я, — мода, должно быть, у них такая — краситься под блондинок). И
тоже — в чёрных кожаных перчатках, в тон тёмной формы. А ведь была без них,
там, в проходной КПП, — это я точно помню. Бить, что ли, собралась? Та
кабинетная командирша своими руками не била. Хотя эта внешне выглядит помоложе.
Тоже, конечно, далеко не девочка, но всё-таки помоложе. И взгляд какой-то… не
совсем такой, как у той военачальницы. Нет, и его добрым или даже просто
снисходительным не назовёшь, этот взгляд, но всё же он был каким-то более
живым, более заинтересованным, что ли. Без того глухого и совсем уж бездушного
«климакса». Лучше это для меня? Или наоборот хуже?
— Так вот кто у нас возбуждаться по команде не умеет, — сказала офицерша с
насмешливой улыбкой, изучая меня откровенно любопытным взглядом. — Ничего,
инопланетянин. Нам твоё возбуждение не понадобится. Как не понадобится и то,
что у тебя там не возбуждалось, — и уже более серьёзно, негромким, но
властным, не терпящим возражения тоном скомандовала: — Подойди ко мне.
Я подошёл. Спорить со здешними дамами — себе дороже. Это я уже успел уяснить на
собственной шкуре. Поэтому там, где возможно, лучше было не спорить, а молча
подчиниться. Может, получится пожить подольше, — подумал я с горькой иронией.
Да и офицерша эта всем своим видом и манерами была достойна подчинения ничуть не
меньше, чем та «эсэсовка». Вот планетка! Штампуют их здесь, что
ли, таких «достойных»?
— Ближе, — приказала она.
Я послушно сделал шаг вперёд, оказавшись почти вплотную к ней.
— Тебя ещё не научили становиться на колени перед женщиной? — умехнулась
она.
Я опустился в эту позу, не дожидаясь напоминания, а то и расправы. Правда,
без излишнего раболепства, без боязливой поспешности. Просто опустился на
колени, стараясь не терять достоинства — единственного, что у меня ещё
осталось и чем я не желал поступиться ни при каких обстоятельствах.
Много вас тут таких, требующих рабского преклонения. А я один, — говорила во
мне раненая, но не добитая гордость. Я даже не смотрел на неё — смотреть ей в
живот, находившийся на уровне моего лица, было бы верхом неприличия и более
того — дерзостью, а дерзить как-то не особенно хотелось.
Она взяла меня затянутой в перчатку рукой за подбородок и, приподняв голову,
заглянула мне в глаза. Долго смотрела в них, словно желая отыскать там что-то
интересное для себя, а я изо всех сил боролся с не вовремя нахлынувшей волной
всё той же, уже знакомой предательской слабости перед женской властью —
властью, которая стремилась парализовать мою волю. Только остатки бунтующего
самолюбия помогали мне хоть как-то сохранять контроль над собой, не подчиниться
гипнотической силе этих изучающе-пронизывающих глаз, заглядывающих без спроса в
самую душу, не пасть ниц к её ногам, не растечься лужицей перед этой красивой
властной командиршей.
Смотри сколько угодно, красавица, — мысленно усмехнулся я. — Уж чего-чего, а
страха и рабской покорности ты там точно не отыщешь. Эх, ввернуть бы сейчас
что-нибудь вроде «Нравлюсь, да?» И со скромной, вежливой улыбочкой
для пущего эффекта. Но проклятый язык будто присох к нёбу, да и губы сделались
какими-то непослушными.
— У-у-у, как тут всё запущено, — сказала она почти ласково, не скрывая
ядовитой усмешки и не выпуская меня из плена своих глаз.
— Они у нас сильно гордые, — подхватила с грубоватой издевкой вторая
амазонка.
— Я такими гордыми завтракаю, обедаю и ужинаю, посолив их и поперчив.
Офицерша выпустила из пальцев мой подбородок и, выпрямившись, приказала:
— Опустись на четвереньки.
Я наклонился вперёд и опёрся руками о пол, а она аккуратно, но уверенно
наступила мне на кисти — сначала на одну, потом на другую. Наступила не для
того, чтобы причинить боль, а чтобы просто зафиксировать, придавить их к
полу, лишая меня возможности отстраниться. Я смотрел на её изящные,
поблескивающие сапожки — символ женской силы и власти, — потом перевёл взгляд
на другой символ — кожаные перчатки, тесно обтягивающие её руки, которыми она
проделывала в этот момент что-то не совсем понятное, невольно привлёкшее моё
внимание. Она нащупала у себя на брюках замочек тонкой молнии и потянула его
вниз, а затем, не расстёгивая поясного ремня, высвободила из под плотных
трусиков округло-продолговатый, удлинённый предмет, который упруго распрямился
возле самого моего лица. Телесного цвета, с головкой и рельефно проступающими
венами, он создавал настолько полную иллюзию настоящего мужского члена, что я
чуть было не усомнился в том, что передо мной действительно женщина, и
удивлённо вскинул на неё глаза.
— Ну что смотришь? — спросила она с самодовольной улыбкой, явно наслаждаясь
моим замешательством. — Возьми его в ротик и пососи. Никогда раньше не делал
такого? Ну так потренируйся. В борделе будешь брать не только у женщин, но и у
таких же, как ты, наложников.
Будто хлыстом по лицу ударила, упомянув о мужчинах в этом конкретном смысле.
Меня всего как-то покоробило, а к лицу жаркой волной прилила краска гневного
возмущения и внутреннего протеста. Но ей, судя по всему, не было дела ни до
моего возмущёния, ни до протеста. Она чуть присела, слегка согнув ноги в
коленях, подалась вперёд низом живота и её придерживаемый пальцами имитатор
мужского члена требовательно уткнулся мне в губы.
— Ну? Приоткрой ротик.
Не выпуская страпона, она свободной рукой легонько шлёпнула меня по лицу,
принуждая к повиновению, и, не дождавшись или просто не желая ждать, сама
взяла пальцами меня за щёки и сдавила их так, что мои губы сложились трубочкой,
куда она не замедлила ввести головку своего девайса. Придерживая меня одной
рукой за подбородок, она положила другую на мой затылок, вошла глубже и
задвигала тазом, совершая размеренные, возвратно-поступательные движения.
Что же она делает-то такое? Что творит со мной?! Если бы ещё хоть как-то
по-другому, не так издевательски, не с таким вопиющим цинизмом. Даже раздеться
не соизволила, просто достала его из брюк и теперь опускает меня совсем уже не
по-женски, а по-… А как?
По-военному, по-гвардейски, — улыбнулся бы я самому себе, если бы мне сейчас
было до улыбок. Чувство юмора, такое спасительное в самых сложных, самых
скользких ситуациях, куда-то вдруг улетучелось, исчезло, оставив меня наедине
со всем тем, что проделывала сейчас со мной эта самоуверенная,
извращённо-циничная особа. Готовый стойко, с честью встретить любые, самые
жестокие побои и пытки, я совершенно не был готов к такому повороту событий.
Жгучий стыд от унижения, заставляющий краснеть, и понимание творимой надо мной
несправеливости рождали душевный протест и бунт уязвлённого самолюбия, но
почему-то к этому стыду и к этой внутренней боли густо примешивалось какое-то
предательски-сладостное чувство, какое-то томительное наслаждение, от которого
щемило внутри и мучительно ныло сердце, готовое сдаться на милость
победительницы. И чем сильнее ощущалось унижение и чудовищней была
несправедливость, тем острее пронзало меня это наслаждение — томящее,
губительное, гибельное. Чувство это чем-то отдалённо напоминало стремительное,
захватывающее дух падение во что-то бездонное, — словно, ускоряясь, катишься
вниз по крутому заснеженному склону и знаешь, что где-то там, внизу, обрыв,
но не знаешь, какой он высоты.
Видела бы меня сейчас жена Светлана, — неожиданно и совсем некстати мелькнуло в
голове.
Вот так всегда. Самые несвоевременные мысли и в самый неподходящий для этого
момент. И всё-таки как-то невольно, подспудно представилась реакция красавицы
супруги — её расширившиеся от удивления глаза, затем — неподдельное возмущение
на лице, презрительное фырканье, демонстративное поворачивание спиной и
уход.
А офицерша, между тем, продолжала своё дело, насилуя меня таким постыдным,
совсем не женским способом. Она похотливо двигала тазом, безразличная к той
буре противоречивых чувств, которые рождала во мне, и на все мои душевные
терзания и муки ей было наплевать и растереть… Нет. Не наплевать. Она ещё и
упивалась этим. Я, даже не поднимая на неё глаз, чувствовал, видел каким-то
внутренним зрением, как она упивается. Это был не просто садизм, а нечто более
изощрённое. Не садизм тела, а садизм мозга. Но… но почему-то не хотелось,
чтобы этот садизм прерывался, чтобы прекращались эти садняще-сладкие душевные
муки.
— Старайся, инопланетянин. Соси, — услышал я над собой довольный голос моей
насильницы. — Чем лучше смажешь мой член, тем меньше боли он тебе причинит.
Язычком работай, облизывай его.
Ну уж нет. Подчинение подчинением, а сам себя в шлюху превращать не буду.
Сосать, облизывать и причмокивать не стану… А что она там про боль? Это что же,
она ещё и раком меня поставить собирается?
И, словно в подтверждение моей догадки, офицерша прекратила, наконец,
бесчестить меня в рот и, вынув из него страпон, сошла с моих рук.
— Ну сам виноват, если плохо смазал, — усмехнулась она с каким-то странным
блеском в глазах, и весёлым и недобрым одновременно. — Раздевайся.
Знакомая команда. Только теперь с другим подтекстом. С совершенно иным смыслом.
Не для осмотра и оценки обнажённого тела. Смотреть на меня и оценивать, какой я
красивый, тут явно никто не собирался.
Снимаю с себя свой лёгкий лётный комбинезон, стягиваю трусы, стараясь не
глядеть ни на командиршу, ни на её подчинённую — свидетельницу и явно
заинтересованную зрительницу того, что происходило у неё на глазах.
— Возьми матрас и положи его на пол, — приказала офицерша.
Ну правильно. Топчан же узкий и неудобный. Можно свалиться.
Выполняю команду, по-прежнему не поднимая глаз и не глядя ни на кого.
— А теперь ложись на него лицом вниз.
Нахожу в себе силы посмотреть в глаза своей мучительницы. А то ещё немного — и
она меня совсем в ничто превратит. Даже не в ничто, а в подстилку, в тряпку
для вытирания ног.
— Можно спросить, госпожа?
— Нет.
Всё ясно. Вопросов больше не имею, — мысленно подытожил я не без
горьковато-кислого юмора, но с чувством реализованной попытки, пусть и
неудачной.
Ложусь и ощущаю, как по телу пробегает холодок. Холодок неизвестности.
Томительно тянутся секунды ожидания. Чего она ждёт? Почему медлит? Любуется,
что ли на то, чем ей предстоит овладеть? Или просто жути нагоняет, выдерживая
паузу? Кажется, проходит целая вечность, прежде чем я почувствовал, как
офицерша становится позади меня на колени, слегка радвинув мои ноги своими
ногами. А раздеться так и не пожелала. Не посчитала нужным обнажаться перед
каким-то там подвернувшимся под руку бесплатным наложником, перед уже
надкушенным куском мяса, который предстояло доесть. Чувствую, как она
упирается головкой своего имитирующего член предмета в меня и непроизвольно
сжимаюсь. Она шире раздвигает коленями мои ноги, разводит руками в перчатках
вздрогнувшие от её прикосновения ягодицы, давит страпоном настойчивей, а мои
мышцы от всего этого сокращаются только ещё сильнее.
— Расслабься.
Да не могу я расслабиться, даже если бы захотел. А я к тому же ещё и не хочу.
Что я ей шлюшка постельная, чтобы самому насаживаться, да ещё и
подмахивать?
— Узкий какой, — слышу её голос и мысленно вижу, как она улыбается. Ехидно так
улыбается. Предвкушающе. — Без смазки тут явно не обойтись. Гайлийрийна, подай
тюбик.
Лежу лицом вниз, чтобы не видеть ни её, ни эту… Гайли… Гайлий… тьфу ты! язык
сломаешь. Офицерша что-то там колдует, — наверняка смазывает страпон. Потом,
вставив между моими предательски задрожавшими полушариями нечто тонкое, узкое —
должно быть, горлышко тюбика — выдавливает мазь в меня. И снова всё
повторяется: уткнувшись сзади фалоимитатором, разводит коленями мои ноги,
раздвигает руками ягодицы и надавливает. И преодолевает, наконец,
сопротивление моих судорожно сжимающихся мышц. Чувствую, как головка её
скользкого страпона непрошенно, против моей воли, проникает в меня, в моё
смазанное отверстие, немилосердно раздвигая его. Я непроизвольно напрягаю все
мускулы и щурюсь, прикрывая глаза от боли — тупой и режущей одновременно, — от
этого распирающе-разрывающего изнутри давления, а она удовлетворённо
выдыхает:
— Вот так…
И, медленно, но уверенно войдя ещё глубже, ложится на меня, придавливает
грудью к матрасу и добавляет с издевкой, почти касаясь губами моего уха:
— Вот теперь можешь сжиматься сколько угодно. Я люблю, когда поуже и
потуже.
И, подтверждая собственные слова, заводит свои колени по обе стороны от моих
колен, с силой стискивает их и плотно сдвигает мне ноги. А затем начинает меня
насиловать, плавно и размеренно двигая тазом и то всовывая в глубь свой страпон
— этот имитатор возбуждённого мужского достоинства, — то вытягивая его
обратно.
Её искусственный член причинял неприятное, усиливающееся при движении чувство
тупого распирания в сочетании с острой, режущей болью, но эта физическая боль
странным образом уравновешивалась и даже перекрывалась другой болью — душевной,
мучительно сладкой, которая заставляла краснеть от стыда. И эту душевную
сладостную боль офицерша искусно и изощрённо поддерживала во мне, не давая ей
утихнуть и ежесекундно напоминая о том, что страпон — не единственное, чем она
активно и тесно контактировала со мной. Я чувствовал тяжесть и каждый изгиб её
навалившегося на меня и пристраивающегося поплотнее, поудобнее тела,
чувствовал её ноги, сжимавшие мои ноги, и её руки, то похотливо оглаживающие,
то тискающие мои плечи, бока, напрягшиеся мускулы брюшного пресса и мнущие
мне, как девушке, грудные мышцы. А ещё ощущал над самым своим ухом её
чувственное дыхание и слышал тихий смех или вкрадчивые слова:
— Какой же ты там тесный, зверик. У тебя никого не было до меня? Как же я люблю
быть первой в этом деле. Обожаю снимать сливки.
Несколько раз она брала меня рукой за подбородок и, не прекращая
бесстыдно-размеренных движений своего тела, поворачивала мою голову к себе,
чтобы близко заглянуть в глаза — словно пыталась уловить, поймать в них что-то.
А когда она вошла в меня особенно глубоко и резко и я выгнулся под ней с
натужным стоном, её узкая ладонь, обтянутая гладкой тонкой кожей перчатки,
властно зажала мой раскрытый рот — командирша желала владеть не только всем моим
телом, но и моим голосом, оставляя за собой право решать, испускать ли мне
стоны ртом или натужно мычать через нос.
Я был как в тумане из-за нереальности, невозможности происходящего. Неужели она
проделывает всё это со мной? Неужели это я лежу, придавленный и насилуемый ею?
Разум отказывался понимать и принимать такое, разрываясь между жгучим чувством
стыда и пронзительным, болезненно острым наслаждением. Знает ли она,
догадывается ли о том, что я испытываю от её насилия, от того, что ощущаю её
на себе и в себе? Едва ли. Она прислушивалась только к своим желаниям и
следовала им одним. Она использовала меня для собственного, а не для моего
удовольствия, — я чувствовал это каждой клеточкой своего тела, и это чувство —
чувство того, что она стремилась получить, а не дать удовлетворение, что она
насиловала меня для своего личного наслаждения, ничуть не заботясь о моём,
делало это моё наслаждение особенно острым. Томительно, пронзающе острым.
Почему-то мелькнуло в затуманенном, почти лишившимся контроля сознании:
двусторонний он у неё что ли, этот девайс, которым она, не останавливаясь ни
на секунду, накачивала меня ритмично, как насосом? Или он с каким-нибудь ещё
хитрым приспособлением, помогающим ей получать удовольствие вот так — не
по-женски?
Казалось, всему этому не будет конца. Но в какой-то момент я всё же
почувствовал, что дело близится к развязке, что процесс достигает своего
апогея. Дыхание офицерши участилось и стало прерывистым, движения таза
сделались более короткими и быстрыми, и, наконец, всё её тело, задрожав,
судорожно подалось вперёд и вжалось лобком в мои ягодицы. Секунда-другая — и я
услышал над ухом её сладострастный, напоминающий негромкое сдавленное рычание
стон, а ещё через несколько напряжённых мгновений она вдруг вся расслабилась и
облегчённо вытянулась на мне…
Какое-то время она отдыхала, не меняя позы и не выходя из меня. Потом, не
вставая, повернула лицом к себе, выворачивая мне шею, и спросила с усталой
язвительностью, прячущейся за нарочитую заботу:
— Ну как тебе? Живой ещё?
Что тут можно ответить? Чем крыть, когда то, что раньше было гордостью и
самомнением попрано так изощрённо и безжалостно, что напоминает раздавленного
каблуком червяка? Крыть тут можно только одним: какой-нибудь несусветной, хоть
чуточку похожей на иронию глупостью, которую ещё способны были выудить из
порабощённого сознания жалкие остатки воли. Что я и сделал.
— Не знаю, как вам, госпожа, а мне понравилось, — сказал я, с трудом
переводя дыхание под ней.
И, подумав, что бы ещё добавить, не нашёл ничего более умного, чем
спросить:
— А что вы делаете сегодня вечером?
Офицерша фыркнула от едва сдерживаемого приступа смеха:
— Ты сперва доживи до вечера!
Потом, справившись с собой, сделалась серьёзней, шлёпнула пальцами по моей
повёрнутой к ней щеке, ставя меня на место этой пощёчиной, и сказала строго и
назидательно:
— Не наглей, инопланетная игрушка. Это может для тебя плохо кончиться. Ты даже
не представляешь, как плохо.
Лучше и не представлять, — мысленно согласился я с ней.
Полежав на мне совсем недолго, она снова зашевелилась, поёрзала и… начала всё
сначала. Чёрт бы побрал эту женскую способность к неоднократному оргазму! Или
наоборот — слава всевышнему? Сразу и не разберёшься.
Всё повторилось — опять та же тупая, распирающая боль от фалоимитатора в
сочетании с неприятной резью и то же мучительное, болезненно-острое наслаждение
от тесного плена её бесцеремонно-смелых рук, ног и всего тела, от её слов на
ухо, то насмешливых, то откровенно бесстыдных, и, когда она задрожала в
экстазе во второй раз, мне подумалось: «Ну теперь-то, наверное,
всё.»
Я и угадал и ошибся одновременно. И даже не потому, что кроме офицерши была ещё
эта… с плохо запоминающимся именем, а может фамилией. «Всё»
относилось лишь к использованию страпона — по крайней мере, на ближайшее время
— но желания командирши этим не исчерпывались. Встав с меня, она присела на
край голого топчана, вытянула ногу и приказала:
— Сними сапог.
Что оставалось изнасилованному с обеих сторон пленнику? Только подчиниться. В
этой ситуации была какая-то своеобразная ирония: после всего того, что она со
мной сотворила, прислуживать ей, как покорный слуга надменно-чопорной госпоже.
Во мне даже шевельнулось нечто похожее на томительное удовольствие от того, что
приходится быть рабски услужливым. Я послушно стащил с неё сначала один сапог,
потом другой и помог стянуть приспущенные ею брюки. Страпон с трусиками она
сняла сама, после чего небрежно толкнула меня в грудь ногой в белом носке:
— Ложись на спину.
Я снова опустился на матрас, на этот раз лицом вверх, а она подошла и встала
надо мной, без всякого стеснения расставив ноги по обе стороны от моей груди.
Форменная рубашка, до этого заправленная в брюки, смотрелась на ней, как
короткое платье без пояса и то, что раньше было под трусиками, теперь как бы
затенялось подолом рубашки. Да я и не старался приглядываться, что там у неё и
как, не страдая в этом плане избытком любопытства.
— Руки разведи в стороны и не вздумай касаться ими меня, — приказала она.
Я подчинился, раскинув руки крестом. Она переступила к самым моим подмышкам и,
когда села мне на лицо, её колени упёрлись в матрас, а голени — точнее,
подъёмы стоп — придавили мои бицепсы. Чуть приподнявшись и глядя на меня сверху,
она сказала:
— Поработай язычком. Полижи у меня там.
Сделать куни? Было бы приказано. Какой-никакой опыт, пусть и достаточно
скромный, у меня в этом деле имелся.
Послушно приступил к выполнению распоряжения. Если ей действительно это
нравится, я буду только рад. Она положила руку на лобок, раздвигая пальцами
свои губы — те, другие, которые почти касались моих губ — обнажая и как бы
показывая мне нужную точку — тот бугорок, который нужно было лизать. Да знаю я
про этот бугорок. Не такой уж неуч, каким она, наверное, меня представляет. Я
бы, может, и сам раздвинул, если бы не было категорического запрета касаться
руками её тела. Хотя так даже приятней. Никакой личной инициативы с моей
стороны, никаких посягательств на её господскую неприкосновенность. Кажется,
ей нравится, если судить по лёгким встречным движениям таза. Слышу её чуть
изменившийся, будто подсевший голос:
— Смотри мне в глаза.
Вот ведь какая! Смотрю. В её взгляде — жажда плотского наслаждения,
удовольствие от обладания мной и… и ещё много чего намешано. А уж что там в моих
собственных глазах, пусть читает сама. Стараюсь только, чтобы там не было
ничего лишнего из того душевного сумбура, который терзает и разрывает меня.
Особенно, чтобы не было унизительного и какого-то по-собачьи тоскливого,
жалобно-потерянного выражения вкупе с совсем уж неуместным чувством — чувством
восхищённого обожания. С этим борюсь, как могу.
Но вот, похоже, что её начинает забирать по-настоящему, похоже она входит в
раж. Нежностей моего языка ей уже недостаточно, они уже не удовлетворяют её
полностью, до конца. Она плотно садится мне на лицо и с силой начинает сама
двигаться по нему. Трётся, используя и мои губы, и мой нос и всё, что только
подвернётся. И свои пальчики использует для дополнительной стимуляции растущего
возбуждения. А главное, меньше всего заботится в эту минуту о том, чтобы я не
задохнулся под ней.
Не задохнулся. Не успел. Тем более, что моментами успевал глотнуть порцию
спасительного воздуха если не краешком раскрытого рта, то хотя бы носом. Она
снова, уже в третий раз, задрожала, забилась в оргазме, добавляя любовного
сока к уже размазанному по лицу, и, немного отдохнув, слегка приподнялась
надо мной. Довольная и расслабленная, она устало приказала мне:
— Вылижи там всё досуха.
И я послушно поработал языком. Тем более, что это не было мне неприятно.
Скорее, наоборот. Бог мой! Уж не влюбился ли я в неё? Почему-то вспомнилась
старинная поговорка: «Взял силком, да стал милком.» А если немного
переиначить? Если перефразировать на венговский манер? Получится: «Взяла
силой, да стала милой». Улыбнуться бы этой переиначенной присказке, да
улыбчивость куда-то пропала, сбежала от меня вместе со спасительным
юмором.
Перед тем, как окончательно слезть, она сдвинулась назад, на мою грудь,
благосклонно погладила меня по щеке и произнесла со снисходительной
нежностью:
— Хороший мальчик.
Она просто добила меня этой своей непрошенной, но такой нестерпимо приятной
лаской, от которой глаза мучительно прищурились, веки чуть задрожали, борясь
с желанием закрыть их, а сердце едва не расплавилось, как воск. Добить-то
добила, но, видимо, не до конца. Не до самого конца. Дух противоречия,
вернее то, что от него осталось, заставил меня выдать очередную словесную
глупость, которую меньше всего можно было назвать умным ответом на её
благосклонно-нежное — «хороший мальчик».
— Вы мне тоже понравились, госпожа, — признался я ей, отрешённо глядя в
потолок камеры. — Я почти влюбился в вас.
Ну вот кто меня за язык тянул? Сейчас получу заслуженную оплеуху. И скорее всего
— не одну. Из такого сидячего положения давать пощёчины намного удобнее, чем
лёжа на мне.
К моему удивлению она не только не ударила, но даже ничего не сказала в ответ
на мою глупую дерзость, только посмотрела на меня как-то странно —
внимательней, чем до этого — и усмехнулась. Потом поднялась на ноги,
перешагнула через меня и бросила другой амазонке:
— Гайлийрийна, твоя очередь.
И, уже меняясь местами с подчинённой, что-то добавила ей негромко и близко,
едва не на ухо.
— Хорошо, Вийлийгрейса, — понимающе ответила та.
Ну и имена у них тут! Захочешь — не запомнишь.
Амазонка с именем, начинающимся на Гай, не стала мудрствовать со страпоном
или каким-нибудь другим девайсом, а всё сделала просто и быстро — по-солдатски.
Разделась и сразу села мне на лицо. И сходу взяла быка за рога — принялась с
грубовато-откровенной похотью, ёрзая, тереться о то, на что уселась. Она
ёрзала и тёрлась до тех пор, пока не получила желаемого удовольствия. А потом,
после повтора — и полного удовлетворения.
Они ушли, закрыв на замок дверь камеры, а я, оставшись один, переложил
матрас на топчан и прилёг на него, стараясь упорядочить мысли в голове и тщетно
пытаясь разобраться в мешанине собственных чувств.
Значит, Вий её зовут, эту офицершу? — ухватив начало длинного имени, я даже
не пытался воспроизвести его в памяти полностью. — Вий, значит? Улыбнулся,
вспомнив один страшный, почти забытый сюжет, основанный на старинном
мифическом предании. Там тоже упоминалось это имя, но обладателем его было
жуткое чудище с огромными тяжёлыми веками, которые нельзя было открыть без
посторонней помощи. Разве сравнишь их — эту Вий и того вия? Красавица и
чудовище.
Я лежал и думал о ней, об этой Вий — вторая амазонка по имени Гай вспоминалась
редко и мельком, всплывая где-то на заднем плане и тут же уступая место
офицерше. Почему-то пришла на ум странная фантазия. Представил себе, как она,
эта Вий, пристроившись со спины и обхватив меня руками и ногами, но не
прижимаясь плотно, а только касаясь низом живота моих связанных сзади рук,
чтобы дать возможность свободно шевелить ими, говорит мне на ухо:
«Успеешь удовлетворить меня раньше, чем задохнёшься — твоё счастье. Не
успеешь — пеняй на себя.» И после этого зажимает мой рот своей ладонью в
перчатке, сдавив большим и указательным пальцем ноздри и притиснув меня
затылком к себе. А я стараюсь как можно быстрее доставить ей удовольствие,
торопливо, наощупь работая за спиной пальцами связанных рук. Я спешу, но не
только и не столько из-за страха быть задушенным, умереть. Мне нравится делать
ей приятное, нравится чувствовать, как она наслаждается. И я не верю до конца
в то, что она захочет хладнокровно и жестоко прервать мою жизнь. Ну а если всё
же захочет, тогда… Тогда так тому и быть…
Не знаю, как долго я бы ещё фантазировал, если бы мои мысли не прервали шаги и
уже хорошо знакомое звяканье отпираемого снаружи замка. Пришли новые амазонки.
На этот раз втроём…
А потом их сменили другие… Затем ещё… И ещё… Они приходили по двое, по трое, а
один раз — даже вчетвером…
Интересно, сколько народу в их гарнизоне? Или это у них военная база? Гарнизон,
он ведь в крепости, а какая же здесь, на Венге, может быть крепость? — думал
я, очень надеясь на то, что не весь численный состав амазонок окажется
сексуально озабоченным и проявит свой физический интерес к бесплатному
инопланетному мясу в моём лице.
Правда, никто из тех, кто приходил в камеру, не занимался избиением, не
стремился издеваться надо мной теми методами, которых я опасался больше всего.
Может, они остерегались повредить то, что предстояло передать в бордель? Или
просто были трезвыми, как и полагалось на службе, и это сдерживало их от
опасных, по-садистки разрушительных действий? Если не считать шлепков и тычков
кулаком для того, чтобы активизировать мой язык или заставить расслабить
ягодицы, никто меня не бил. Не бил по-настоящему. Да и в способах овладения
мной амазонки особо не изощрялись и не извращались. Большинство из них
ограничивалось принудительным куниллингом, вполне удовлетворяя себя этим
простым и по солдатски быстрым способом получить плотское наслаждение, и только
некоторые приносили с собой страпон, который надевали уже в камере,
предварительно раздевшись. Они ставили меня в коленно-локтевую позу и,
придерживая за талию или бёдра, ритмично делали своё дело. Но это было не то,
далеко не то, что творила со мной Вий. С ними, с этими страпонессами, я
ощущал только вставленный в меня посторонний предмет. С ними я чувствовал лишь
тупое распирание и режущую боль от движения во мне этого предмета, — и ничего,
кроме распирающей боли и рези. Ничего такого, что сверх того было с Вий. С
этими страпонессами я просто терпел, стискивая зубы и стоически перенося их
толчки, и, хоть не забывал по окончании поблагодарить своих мучительниц за
доставленное мне удовольствие — а что ещё можно было придумать, кроме
вежливо-ироничных слов благодарности? — но желания признаваться им в любви
почему-то не возникало.
А ещё я поймал себя на мысли, что за всё это время — за время, проведённое в
камере, куда заходили всё новые и новые желающие бесплатно вкусить
инопланетятины — ни разу не вспомнил о девизе русских кадетов из императорских
корпусов. Что они там говорили, эти кадеты? «Честь — никому»?
Никому, кроме жаждущих насладиться женщин. А это не считается. Это не та потеря
чести. Да и чести ли? И потеря ли?
2015-11-27 в 15:05 |
|
1169 |
|
1 |
Добавить комментарий
|

|
Николай, 35 лет
Новосибирск, Россия
|
|
|
Спасибо автору за столь интересный рассказ, прочитал на одном дыхании,
хотелось бы испытать такое наяву... Спасибо ещё раз автору за этот рассказ
|
|

|
Bars, 71 год
Балашиха, Россия
|
|
|
Не стоит благодарности, Николай. Тем более, что идея написания и место
действия с заданными венговскими "параметрами" принадлежали не мне. Я лишь
оформил всё это так, как мне было ближе, понятней и интересней, работая
строго в оговоренных рамках.
|
|

|
Анна, 50 лет
Москва, Россия
|
|
|
У Вас хороший слог. Читается с интересом, без напряжения.
|
|

|
Bars, 71 год
Балашиха, Россия
|
|
|
Спасибо, Анна. Понимаю, что Вы мне просто льстите. Но всё равно приятно. Слаб
человек. И падок на лесть. :)
|
|

|
Анна, 50 лет
Москва, Россия
|
|
|
Почему льщу? Вовсе нет. Я не говорю, что Букеровская премия Вам светит, просто
многих здешних писателей из ЦПШ повыгоняли, видимо-))
|
|

|
Bars, 71 год
Балашиха, Россия
|
|
|
А Букеровская точно не светит? Даже как-то немножко обидно. :)
|
|

|
7, 40 лет
Зальцбург, Австрия
|
|
|
вот же чертяка. всем нос утёр. интересно сколько Вас челов, читало?.....ну а те
кто читал..наверное вздыхали с сожалением- о бессмыслено проведённых годах. на
этом сайте.
|
|
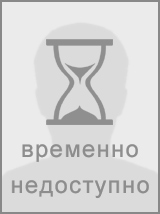
|
Арина, 39 лет
Новосибирск, Россия
|
|
|
Bars,
а ещё пишите? Выкладывайте - очень читать понравилось!=)
|
|

|
Юрий, 66 лет
Новосибирск, Россия
|
|
|
Особенно понравились последние слова. В них есть философский смысл
|
|

|
dark angel, 44 года
Астрахань, Россия
|
|
|
СУПЕР) Браво! Огромное Вам Спасибо, Уважаемый ТС.
|
