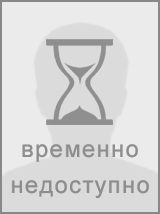Луи-Ксавье де Рикару
Сентябрьский закат последними лучами
Кровавит мрачную равнину, сьерр излет
И облака в дали, стоящие стенами.
А Гвадаррама посреди песков несет
Послушную волну, местами отражая
Оливковых ветвей иссохший переплет.
Вдруг жадных ястребов срезает угол стая
И в небе красном и темнеющим кружит,
Охриплым клекотом пространство оглашая.
Перекрывая деспотический зенит
Нагромождением своих граненых башен,
Эскориал вознес тщеславия гранит.
Прямоугольник белых стен и строг, и страшен,
Пронизан окон монотонной чередой
И лишь решетками витыми приукрашен.
Раскатом походя на обреченный вой
Медведя, что попал овчаров под мотыги,
И рвется, и ревет, и этот рев глухой
Несется от скалы к скале, тревожа риги,
И ропотом вдали смолкает наконец,
Колокола гудят во мгле, зловещи, дики.
Свиваясь на ходу в несчетный ряд колец,
Священною змеей процессия петляет
Во внутренних дворах, где тени как свинец:
Идут монахи, следом в след, как подобает,
Все в белых рясах, все босые, каждый сжал
Свечу и грозный гимн со всеми распевает.
– Кто умирает здесь? И для кого весь зал
Укрыт соломой, на распятиях – вуали,
Как это требует латинский ритуал?
Высокий зал, просторный, темный. Блеск эмали
На тяжком акажу бесшумных створ дверных,
Чьих петель и замков промаслены детали.
Размытые лучи, грустней тонов ночных,
Багрец неясный оставляют на гардинах
Сквозь окна, где закат почти уже затих,
И оттого дрожит на стенах и перинах,
Вокруг вещей, в тени, скрывающей плафон,
Тот редкий ореол, что есть лишь на картинах.
Прозрачна светотень, живой глубокий фон,
Среди неё везде как чуткие гиены
Придворные снуют, стоят, выходят вон.
Камзолы и плащи, воротники и тренты,
Плюш, горностай, парча, шелк, бархат и атлас –
Всё роскоши хвалу возносит, как со сцены.
И в полутьме блестит на панцирях кирас
Высоких стражников, стоящих чередою
Вдоль стен, закатный блик, рожденный сотню раз.
Над ложем человек, схож ликом со змеею,
Весь в черном, потерев ладонями бока,
Склонился, будто бы над книгою святою.
Эбеновый альков почти до потолка,
Парчовых покрывал тяжелая ограда,
Где крупный бриллиант бьет в глаз наверняка.
На ложе том – старик, сухой как древо яда,
Он четки теребит и выпускает вдруг
Из пальцев, что спеклись как лозы винограда,
И что-то силится сказать: невнятный звук,
Последний жизни знак и первый вестник мрака,
Со смрадом из груди разносится вокруг.
А в бороде его, под цвет сухого мака,
Среди седых волос, чуть рыжих от свечей,
По телу, по плечу, где расползлась рубаха,
Повсюду, торопясь, киша, жадней, бойчей,
Сосать больную кровь, покуда не остыла,
Идут, за строем строй, полки голодных вшей, –
Кровь Короля, Король пред вами, ждет могила
Тебя, Филипп Второй, будь славен ты в веках!
Австрийского орла тревога охватила,
Тяжелые гербы мерцают на стенах,
Знамена с габсбургскими черными орлами
Колышутся вверх-вниз на сильных сквозняках...
– Вдруг отворяют дверь. Слепящими волнами
Свет разливается и тот час все кругом
Горизонтальными скрывает пеленами.
Монахи с факелами входят в зал рядком.
Не прерывая вдохновенную молитву,
Один из них идет к алькову прямиком.
Высок он, юн и тощ, идет он как на битву,
Его исполненный свирепой Веры зрак
Из-под ресниц горит, предчувствуя ловитву;
И грозный, как Закон, его тяжелый шаг
Не заглушается дорожкою ковровой:
Он Королю несет залог загробных благ.
Все в исступлении, пред поступью суровой,
Колена приклонив, бьют кулаками в грудь,
Ведь он Виатику несет – дар Жизни Новой.
От ложа лекарь успевает отшмыгнуть:
Не в силах излечить телесное страданье,
Целителю души он уступает путь.
Распялен болью, будто на колесованье,
Король пред фраем сразу чувствует покой:
Лишь вера в Господа дает нам упованье!
И в этот миг монах взор поднимает свой
(В нем смешаны любовь и укоризны блики)
Туда, где суд вершит Создатель Всеблагой.
– Колокола гудят во мгле, зловещи, дики.
Час Исповеди бьет. Одолевая страх,
На бок поворотясь, Король в изнеможенье
О казнях шепчет, о евреях, о кострах.
– Вы каетесь, но в чем? Уж не в своем ли рвенье?
Евреев жечь? Ведь это ради них самих!
Вы в том явили всем и веру, и смиренье.
И, точно каменный, в забвенье слов своих,
Священник, голову склонив, скрестивши руки,
Являет образ инквизиторов святых.
Но, воздуху набрав, надтреснутые звуки
Вдруг издает Король, как будто лоскуты
Он отдирает от своей душевной муки.
Свет факелов его иссохшие черты
И бледный лоб из тьмы нещадно вырывает,
И слышно: Альба, кровь, фламандцы, смерть, кресты.
– Фламандцы все, как тот, кто руку поднимает
На Церковь, за грехи наказаны сполна:
Король, причина ваших мук меня смущает.
Но продолжайте. И еще одна вина –
Смерть Дона Карлоса – кропит слезами щеки
Филиппа (речь его уже едва слышна).
– В том вашей нет вины, пусть были вы жестоки.
Виновен был Инфант, виновен до конца,
Испанию втянуть могли его пороки
Английской веры в грязь. Он не таил лица
И не дрожал, когда, не зная омерзенья,
Злоумышлял на Государя и Отца!
Закончил речь монах, глаголы отпущенья,
Испепеляя грех, горят в его устах.
Он трепетно кладет облатку причащенья
Филиппу на язык. И в тот же миг в углах
Смолкает все, и Двор в печали беспримерной
Склоняется, немой, с молитвою в сердцах,
Насколько искренней, насколько лицемерной,
Кто здесь признается, на этом рубеже
И в этой тишине, запретным мыслям верной?
Властитель, обретя желанный мир в душе,
В подушках тонет, согреваясь красотою
Прощенья, что ему даровано уже
И взор его души к предвечному покою
Влечет и на губах улыбкою дрожит,
Ещё горячечной, уже почти святою.
И вот, пока вокруг смятение царит,
Пугливый чей-то взгляд мелькает за гардиной,
Душа Филиппа в рай обещанный летит.
Вдруг раздается вой агонии звериной
Из царственной груди – последний вздох страстей:
Так ураган во тьме несется над руиной.
И это всё. Потом из тысячи щелей,
Как змеи, чувствуя, что есть для них потрава,
На смену вшам сползутся полчища червей.
– Встал от Отца Филипп Второй Испанский справа.