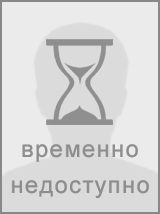И всё-таки я люблю Достоевского. Читаешь и кажется, что безумию русского народа
он прямо в душу глядел. Наверное, от того его наблюдения не теряют
актуальности, что и сам Достоевский был причастен этому национальному
помешательству, достигшему уже в ХХ веке апофеоза своей кровавой
мелодраматичности.
Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой
жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах.
Сердце поднималось до боли. Читаешь – там оправдали жену, убившую мужа. Там
молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать,
очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». – «Нет, не
виновен».
И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть,
что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и –
почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия
какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи
почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности
какого-нибудь горохового киселя, ступите – и так и скользнете вниз, в самую
бездну. Меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я
покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно…
И вот я давно уже снова на родине. «Да полно, жалко ли им в самом
деле» – ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему.
“Жалость” по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из
потемок выводит, а без этого последнего объяснения – одно недоумение, точно
мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.
Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над
собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в
свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите
согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося
от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и
беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не
ворочается язык, чад и безумие в голове.
История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех
газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа
повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще
мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.
Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень
плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще – с жидкими волосами.
Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный;
говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде
всех.
Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за
ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная
характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду – веревками,
палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и
бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же,
вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал.
Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как
щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с
белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже
наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда
они стоят или идут вместе.
Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем.
Мужицкая жизнь лишена эстетических наслаждений – музыки, театров, журналов;
естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в
отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически,
хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то
есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие
ему бить?
Знаете, господа, люди родятся в разной обстановке: неужели вы не поверите,
что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или
Беатриче из Шекспира, Гретхен из Фауста? Я ведь не говорю, что была, – и было
бы это очень смешно утверждать, – но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто
очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии:
любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей
красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки,
показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете.
Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало,
ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, – баста! Отходит,
садится за стол, воздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их
(была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как
кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая
при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.
А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не
смей есть этот хлеб, это мой хлеб».
Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит,
должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг
опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую… А девочка все дрожит,
скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять
спрячется.
И вот он перед судом – важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем:
«Душа в душу жили», – роняет он ценным бисером редкие слова.
Присяжные выходят и по “кратком совещании” выносят приговор: «Виновен, но
достоин снисхождения».
Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и
исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не “снисхождение” присяжных,
то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но с “снисхождением” ему только восемь
месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе
свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги
вешать.
«Достоин снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали
ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в
каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.