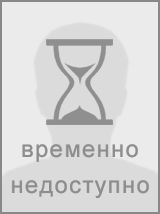В апреле за городом пошел снег. Он залетал в карманы, кусал лицо, смешиваясь с
солнцем и дождем, лился на серые пожухлые колосья у дома. Взявшись за руки, мы
шли по дороге от полуразвалившейся кирпичной кладки церкви чуть не в полисаднике
- к реке. Сначала было солнце, тепло, а потом пошел как раз снег, пришлось
вернуться.
Мы как Пушкин и болдинская осень, говорю я Верхнему, по кошачьи обернувшись
вокруг теплой трубы. В Москве холера и ее дезинфекция, а у нас дом в деревне,
тишина, отсутствие новостей.
- Заметь, - смеётся он, - ни на одном из диванов в доме не умер ни один
дедушка.
Это такая шутка из прошлой жизни, про то, как в России Верхние порят нижних
только на старых диванах. Нет, конечно: сегодня меня ждет столб или балка под
потолком, вечером, страшно.
В передней по приезду его и моя кошки знакомятся, по-гусиному шипят, спорят
кому идти налево по цепи, рассказывая сказки. Колосья в поле, если смотреть из
окна под углом, покрываясь мокрыми осколками снежной бури, дрожат и расцветают
бриллиантовой пыльцой. Цветут подснежники, распускаются крокусы. Идя по
тропинке на экзекуцию, я обхожу их, успокаиваю размеренностью шагов сердце в
цветущей навстречу весне груди - но сердце все равно бьётся сквозь прутья ребер
так, будто сейчас вырвется и взлетит вверх к небу.
В апреле весь мир перед глазами, вся жизнь здесь, в горле, под пальцами
бьётся пульсом.
Завтрашний день так далек.
Так ненужен. Как снег.