Первый опыт в детстве (кроссдресс)
Сказка ложь, да только часть.. накидал вместе с ии по мотивам детских
травм...
Не судите строго
Они жили в старой студии на пятом этаже хрущёвки: одна комната, кухня за тонкой
перегородкой из фанеры, которая скрипела от малейшего сквозняка,
диван-кровать, который по ночам пахнул пылью и маминым одеколоном, шкаф с
зеркальной дверцей, где прятались все их секреты, и крошечный коридорчик, где
зимой висели мокрые куртки, а летом — полотенца с балкона, пропитанные запахом
городской пыли. Двери в комнату не было вообще — только старая занавеска с
выцветшими ромашками, которую давно перестали задергивать, потому что "мы же
вдвоём, Тёма, чего прятаться друг от друга". Здесь всё было на виду: мамины
усталые вздохи, когда она считала копейки до зарплаты, Артёмовы слёзы в
подушку после ссоры с пацанами во дворе, и даже те моменты, когда он,
оставшись один, копался в мамином белье в шкафу, просто чтобы почувствовать
ткань на коже — гладкую, прохладную, чужую. Он сам не понимал, зачем это
делает, но каждый раз внутри что-то сжималось — стыдно, страшно и одновременно
так волнующе, что дыхание перехватывало, а руки становились липкими.
Папа ушёл давно. С тех пор, как Артём пошёл в первый класс. "В командировку",
сказал тогда отец, поцеловал его в макушку и уехал с чемоданом, который пахнул
сигаретами и чужим одеколоном. Мама плакала ночами, уткнувшись в подушку,
чтобы он не слышал, но Артём слышал — через тонкую стенку. Потом слёзы высохли,
и мама стала сильнее: работала на двух работах, иногда задерживалась допоздна,
а он... он просто ждал. Большую часть времени он был у бабушек — у бабы Нюры с
её вечным борщом и рассказами про войну или у бабы Любы, которая вязала ему
свитера, слишком тесные в плечах. Или на продлёнке в школе, где пахло мелом и
чужими бутербродами, и он сидел, уставившись в окно, рисуя пальцем на парной
от дыхания стекле фигурки — то волка с острыми ушами, то машинку с колёсами,
как у папиной девятки. А когда бабушки болели или продлёнка кончалась рано, он
оставался дома один — с ключом на верёвке на шее, как амулетом. Сидел за столом
с уроками, но мысли улетали к остановке внизу, под окном.
Особенно в те вечера, когда мама задерживалась. Он стоял у холодного окна,
прижимаясь лбом к стеклу, которое запотевало от его дыхания, и рисовал —
сначала машинки, потом волка, потом просто линию горизонта. Вечерняя улица
внизу была как театр: фонари зажигались один за другим, автобусы фыркали, как
уставшие драконы, и из них выходили фигурки людей — тени в пальто, с сумками,
спешащие по лужам. Он всматривался в каждую, сердце сжимаясь: "Это она? Нет...
А эта? Слишком высокая...". Иногда слёзы капали на подоконник, размывая
рисунки, и он шептал: "Папа вернётся? Мам, ты где?". Но папа не возвращался.
Иногда заезжал завозил гостинцы и подарки.. "Командировка" растянулась на всю
жизнь, и Артём научился не спрашивать. Только иногда, в тишине квартиры, он
представлял, как отец выходит из автобуса — высокий, с усами, как у ковбоя из
мультика, — и обнимает его так крепко, что все платья и секреты вылетают из
головы.
В тот вечер мама пришла раньше обычного, с пакетами из "Детского мира". Её
глаза светились — редкая искра в их серых, выцветших буднях, где каждый день
был как копия предыдущего: школа, работа, ужин из макарон.
— Тёма, смотри, какое платье взяла для Алины! Марина просила, я обещала, у
них день рождения скоро, нас позвали а без подарка не ходят в гости помнишь?
Только боюсь, что мало будет. Ты такой же худенький, как она… Давай примеришь,
а? Пять секунд, и я спокойна. Если мало будет есть еще время поменять.
А то задержусь сегодня на работе, а ты опять у окна стоять будешь.
Артём, сидевший за столом с тетрадкой по математике, где цифры плясали, как
снежинки, закатил глаза, но подошёл. В её голосе была усталость, но и тепло —
то, ради которого он терпел всё. Мама развернула платье: синее, как глубокое
летнее небо над их двором, с белоснежным воротничком-стойкой на мелких
перламутровых пуговичках, с короткими рукавами-фонариками и пышной юбкой в две
оборки, которые слегка шелестели при движении, как шёпот ветра в листве. Оно
пахло новым — фабричным крахмалом и чем-то сладким, будто в магазине его
обрызгали духами для витрины, — и на миг Артём представил, как оно лежит в
шкафу у Алины, а она вертится перед зеркалом, смеётся, и мама Марина хлопает
в ладоши. У них-то семья полная.
Мама приложила платье к нему спереди, потом сзади, прищуриваясь в тусклом
свете лампы.
— Не пойму… Воротник узкий, а плечи у тебя всё-таки мальчишечьи, чуть шире,
как у папы в твоём возрасте. Давай наденем, правда. Никто не увидит, мы же
одни дома. И это быстро — как в садике, помнишь?
Артём хотел возразить — "ма-а-ам, ну я же не девочка, и папа бы посмеялся" —
но мама уже тянула его футболку вверх, и он, как всегда, подчинился, подняв
руки над головой. Голова проскользнула в узкий воротник — ткань плотно обхватила
шею, почти душно, но в то же время так нежно, что по спине пробежали мурашки,
как от папиного прикосновения в те редкие вечера, когда он ещё был дома. Потом
руки в рукава, и платье скользнуло вниз по телу, как прохладная волна,
обволакивая кожу. Юбка легла на бёдра, подол коснулся колен, оборки дрогнули,
коснувшись голых ног. Мама застегнула пуговички сзади, поправила бантик на
поясе — её пальцы были тёплыми, мозолистыми от работы.
— Покрутись, мой хороший. Покажись маме.
Он сделал шаг, потом ещё. Юбка качнулась, оборки зашуршали, как листья в
ветре под окном. Внутри всё сжалось в один горячий, пульсирующий комок — как
тогда, у окна, когда автобус уезжал пустым. Кровь прилила к лицу, к ушам, к
ладоням — они стали мокрыми от пота, как от слёз. А ниже, в животе, разлилось
что-то тёплое, запретное, от чего ноги ослабли и дыхание участилось. Он
чувствовал каждую складку ткани на коже, каждый шов, как будто платье жило
своей жизнью, шептало ему: "Ты не один, ты особенный". Стыдно было невыносимо
— стоять вот так, в платье, перед мамой, которая одна тянет их на себе, — но
в то же время так остро, так живо, что хотелось замереть и не двигаться вечно,
чтобы это чувство не кончалось.
— Ой, Тёмочка… — мама отступила на шаг и прижала ладонь к груди, глаза её
заблестели — не от слёз, а от той редкой радости, которую она прятала для
него. — Ты посмотри на себя… Ну просто принцесса. Глаза стали ещё синие, как у
меня в твоём возрасте, щеки порозовели. Тебе правда очень идёт, мой родной.
Как будто для тебя шили. Папа бы... ой, он бы сказал, что ты мой маленький
рыцарь в синем.
Слова упали в него, как искры в сухую траву — папа. Принцесса. Рыцарь. От стыда
хотелось провалиться сквозь пол, в подвал с паутиной и крысами, чтобы никто
никогда не увидел, не узнал. Но внутри пылало — возбуждение накатывало волнами,
заставляя сердце стучать в горле, как барабан в тишине. Он сжал кулаки, чтобы
не показать, как дрожат руки, и подумал: "А если бы папа увидел? Он бы купил
мне то платье в горошек, как грозил? Или ударил бы?"
Мама подошла, расстегнула пуговички одну за другой — медленно, чтобы не
поцарапать, потянула платье вверх. Воротник снова туго прошёл через голову,
волосы встали дыбом, как после сна в холодной комнате. Она аккуратно сложила
платье в стопку, положила на спинку дивана, поцеловала его в макушку —
тёплыми, мягкими губами, пахнущими помадой и усталостью.
— Спасибо, зайчик. Теперь я спокойна. Алина будет как куколка. Пойду ужин
разогревать, а то сегодня задержусь — отчёт сдам, и премию дадут, может, в
кино сходим. Ты не бойся, ключ возьми.
И ушла за перегородку. Включила воду, зашуршала пакетами, кастрюлями. Запахло
подогретым супом — вчерашним, с кусочками картошки, которые мама всегда резала
кубиками, "чтобы как у бабушки".
Артём остался стоять посреди комнаты. В футболке и шортах. Но внутри платье всё
ещё было на нём — он чувствовал его фантомный вес, шуршание оборок, давление
воротника на шее, как ошейник. Он не мог отвести глаз от дивана. Сердце
колотилось так сильно, что казалось, мама услышит через перегородку, и она
подойдёт, спросит: "Что с тобой, Тёма? Опять папу ждёшь?" Он знал это чувство.
Оно преследовало его годами, как тень отца на стене — длинная, размытая.
В садике, на новогоднем утреннике. Ему досталась роль Волка в "Красной
Шапочке". Но костюма Волка не хватило — воспитательница, торопясь, сунула ему
чепчик бабушки, фартук и старое платье: "Ты же Волк, который притворяется
бабушкой! Большую часть спектакля будешь в этом сидеть на стульчике, кашлять и
жаловаться на живот, а в конце скинешь чепчик, зарычишь и погоняешься за
Шапочкой по сцене". Он стоял за кулисами, чувствуя, как платье облепляет тело
— грубая ткань, пропитанная потом предыдущих "бабушек", чепчик жмёт виски,
как корона из колючек. Все дети хихикали: "Тёма — бабушка! Тёма в платье,
ха-ха!" А он не мог дышать. Щёки горели, как от пощёчины, слёзы жгли глаза,
но в животе разливалось то же тёплое, запретное волнение — быть не собой, быть
хитрым Волком в юбке, притворяться, пока все смотрят. Большую часть спектакля
он сидел на стуле, изображая бабушку: юбка касалась ног, ткань шуршала при
каждом кашле, и стыд душил, хотелось сбежать в раздевалку, запереться. Но
одновременно это было так странно приятно — мягкость на коже, взгляды, шепот:
"Смотрите, он как настоящая!" Только в конце, когда он сорвал чепчик, зарычал
и погнал Шапочку — маленькую девчонку в красном капюшоне, — стыд немного
отпустил, адреналин хлестнул, как плётка. Но потом, дома, у окна, он всю
ночь вспоминал платье, чепчик, и трогал себя под одеялом, краснея в темноте,
шепча: "Пап, ты бы гордился? Или нет?"
И ещё тот случай на море — единственный отпуск, когда папа ещё был с ними на
отдыхе, но обещал приехать. Жара, песок жжёт ступни, волны бьются о ноги. Он
ныл, просил красную машинку которую увидел в ларьке у воды — "Пап, ну купи,
пожалуйста!". Отец сначала отнекивался, потом делал вид что забыл, но в итоге
начал раздраженно язвить ругать и "воспитывать" -
"Ещё раз услышу, как ты хнычешь, как девчонка, купим тебе платье в красный
горошек и будешь в нём ходить, пока не перестанешь! Понял, пацан?!" Артём
замолчал сразу, опустил глаза в песок, но весь день, и потом всю ночь в
палатке, где пахло солью и рыбой, представлял это платье — в горошек, лёгкое,
развевающееся на ветру, как флаг урижения. Отцу так понравился эффект от его
унижения, что он ещё несколько раз возвращался к этой угрозе при первых
признаках капризов сына. "Все, завтра идем в магазин для девочек за платьем!"
Или "видимо ты все таки хочешь платье девчачье, мой сын ведёт себя как плакса".
Стыд жёг, как солнце, слёзы текли в подушку, но возбуждение накатывало,
заставляя крутиться в кровати, трогать ткань шорт, шептать: "А если бы купил?
Я бы надел? ". В какой-то момент он уже поверил что покупка платья неизбежна и
смирившись начал представлять себя в нём, как героя какого то детского фильма
которому пришлось переодеться девочкой чтобы сбежать от воспитателей.
Утром отец уехал — "командировка зовёт", — и Артём остался с мамой, которая
гладила его по голове: "Не плачь" Но от этого было ещё обиднее и хотелось
плакать сильнее.
Сейчас это чувство было в тысячу раз сильнее. Как цунами, смывающее все рисунки
на стекле. Он подошёл к дивану. Пальцы дрожали, как в лихорадке, — холодные,
несмотря на тепло комнаты. Он взял платье, прижал к груди — ткань была тёплой
от его тела, мягкой, как мамино плечо. Мама шумела на кухне — старую песню про
белые розы, которую пела, когда грустила по свободе и молодости, — вода
закипела, пар пошёл, шипение кастрюли — она точно минут пятнадцать не выйдет,
пока не нарежет салат и не подумает, как сказать ему про задержку.
Мама сказала, что завтра заберет платье на работу, чтобы показать коллегам.
Значит больше он его не увидит..
"Только примерить. Один раз. Пока можно. Чтобы почувствовать, что я не
один".
Стянул футболку — она упала на пол бесформенной кучей, Шорты — тоже, цепляясь
за колени. Остался в одних трусах, кожа покрылась гусиной кожей от прохлады и
страха. Начал натягивать платье через голову, как делала мама, но забыл
расстегнуть воротник — воротник был под шею и не пролезал через его большую
голову, почти задушил, он просунул Руки в рукава фонарики вздулись, как
крылья. И стоял пытаясь протиснуть голову словно привидение подняв руки вверх,
запутавшись в плену платья, словно в смирительной рубашке Пальцы не слушались,
скользили по пуговичкам, но он застегнул все на воротнике, одну за другой,
чувствуя, как ткань обхватывает тело, становится второй кожей. Он чувствовал
духоту пытаясь теперь избавиться от платья но руки застряли в рукавах а воротник
на уровне ушей.
И тут раздалось прямо за спиной:
— Тёма...
Он замер, как статуя у окна. Даже дышать забыл. Сердце пропустило удар, потом
забилось втрое быстрее — гулко, предательски.
Мама стояла в проёме арки, держа в руках дуршлаг с макаронами. Пар поднимался,
как дым от костра, который они жгли с отцом на даче. Её глаза были огромные,
как у него в зеркале — полные шока, боли, любви. Рот приоткрыт, ложка в
другой руке замерла.
Тишина была такой плотной, что звенело в ушах, как после пощёчины. Время
остановилось — автобусы внизу не фыркали, занавеска не колыхалась.
Он хотел что-то сказать — "это не то, что ты думаешь", "я просто смотрел, как
сидит", "прости, прости, прости, как за папу" — но язык прилип к нёбу,
горло сжалось в узел, слёзы уже катились по щекам, горячие, солёные. Она
подошла ближе — шаг, другой, босиком, тихо. Он чувствовал, как её руки
дрожат, как губы подрагивают, как она борется с собой — не кричать, не
плакать, не бежать.
— Ты... сам надел?, Давай помогу, надо было расстегнуть сначала глупенкий —
голос тихий, почти шёпот, полный чего-то — удивления? Боли? Понимания,
накопленного за годы одиночества?
Он затараторил пытаясь скрыть своё желание и возбуждение, не мам, я просто
хотел сложить, но запутался, Насте точно понравится, у нас в школе девочки на
утренник в похожих были. Вот смешно было бы если прийти так на утренник пока все
сонные с раздевалки сразу в актовый зал. Едва заметно мать улыбнулась...
Она смотрела на него сверху вниз. Долго, бесконечно — как смотрела на пустую
остановку в те вечера, когда автобусы уходили. Потом опустилась на колени,
чтобы глаза были вровень — её колени показались из под домашнего платья. Она
родила его в 20 лет пока еще была на 3 курсе и сейчас была молодой
привлекательнй 29 летней девушкой. Одевалась всегда в красивые наряды, платья,
юбки, бусы, туфли на каблуках. Для него она была королевой, он хотел быть
похожим на неё, так всегда говорили родственники и случайные женщины в
транспорте или магазине, когда она брала его с собой. Ой какая красивая у вас
дочка так похожа на вас, такие слова регулярно звучали и Артем удивленно
смотрел на мать снизу вверх а она смущенно смеясь говорила ну что вы, это мой
сын, он у меня такой милый и похож на меня а не на отца. Какой красивый мальчик
повторяли странные женщины, если похож на маму значит к удаче. А личико как у
девочки прям. Артем краснел но молчал, он очень стеснялся посторонних, ему
всегда в детстве рассказывали страшные истории о колдуньях которые крали
маленьких детей на улице и поворяли никогда не разговаривать с посороннрми.
Протянула руку — коснулась его щеки, вытерла первую слезинку..
— Повернись, — прошептала, голос дрогнул.
Он повернулся. Медленно, как в замедленной съёмке. Юбка качнулась, оборки
зашуршали — предательски громко в тишине. Он чувствовал её взгляд на спине, на
бантике, на всём — жгучий, но не осуждающий.
Мама долго молчала. Потом протянула руку и коснулась оборки — пальцы дрожали
сильнее его, гладили ткань, как будто это был он сам.
В отражении стояла... девочка? Нет, мальчик. Нет... что-то среднее, третье. С
красными щеками, огромными глазами, полными слёз и огня, дрожащими губами. Он
провёл ладонями по юбке — сверху вниз, чувствуя каждую оборку, каждую складку.
Внктри живота возникло новое чувство тревожно и сладко одновременно — как
ожидание автобуса, который никогда не приедет. Он чуть присел — юбка раздулась,
как колокольчик, и он представил себя на сцене садика, но теперь без
зрителей, без чепчика, просто для себя: Волк в платье, принцесса-рыцарь,
золушка или герда. Мама его могла бы быть снежной королевой у которой в плену он
был.
Стыд накрыл волной — "что я делаю, это же ненормально, мама увидит, скажет,
что я как папа папа и говорил женственный, все узнают, бабушки засмеют" — но
возбуждение было сильнее, оно пульсировало, заставляя дышать чаще, глубже,
чтобы не расплакаться.
— Красиво, — сказала она еле слышно, голос надломился. — Очень красиво. Ты...
как картинка из сказки. Мой Волк в платье бабушки. Мой принц без короны....
Слёзы хлынули — не остановить. Он всхлипнул, плечи задрожали, руки потянулись
к ней, сминая платье. От стыда, от облегчения, от всего, что копилось годами
— от пустых автобусов, от одиночества у окна, от отсутствия папы.
— Я... плохой? — выдавил он, голос сорвался на писк, как в садике за кулисами.
— Я... ненормальный? Как папа? Он бы... он бы меня... Он вспомнил как отец его
выпорол за вранье, то чего он не мог терпеть... Но и за правду могло
прилететь...
Мама обняла его так крепко, что платье смялось в гармошку, ткань врезалась в
кожу, но это было спасением. Она прижала его голову к своей груди, и он
услышал, как стучит её сердце — быстро, как его, как их общее — в
унисон.
— Нет, мой родной. Нет, нет, нет. Ты мой самый хороший. Самый любимый. Самый
настоящий. Папа... папа ушёл, потому что слабый, а ты — сильный. Ты
чувствуешь, ты живёшь. И это не плохо...
Она гладила его по спине прямо по платью, и он чувствовал каждое прикосновение
сквозь ткань — как ласку, как прощение, как обещание, что она не уйдёт, как
отец.
— Просто... страшно, да? — прошептала она в его волосы, её собственные слёзы
капнули на его плечо. — Страшно и стыдно. И приятно тоже? Как в садике, когда
все смотрели? Как на море, когда папа грозил? Как в детстве, когда вы с Алиной
играли в одной кроватке в её куклы и мы с тетей Мариной днем наряжали вас в
разные наряды представляя что у нас две доч.. Она осеклась, ты наверняка не
помнишь вам было по 5 лет мы жили в гарнизоне ввс, и кроме телевизора делать
было нечего.
Он кивнул в её плечо, всхлипывая сильнее. Слёзы мочили её блузку, но она не
отстранилась.
— Я знаю, Тёмочка. Я знаю это чувство. Когда хочется быть не тем, кем все
ждут. Когда стыдно до слёз, но остановиться не можешь. У меня тоже было... в
детстве, после того, как родились сестры и мне приходилось с ними няньчится
пока отец был в плавании а мама работала в отделе кадров и уставала.
Я надевала мамины платья, пряталась в шкафу и плакала. Думала: "Я не дочь, я
рабыня". Но потом поняла — это просто часть игры, выполнять чужие роли
примерять чужие обличья. И у тебя тоже.
Она отстранилась чуть-чуть, вытерла ему слёзы ладонями — тёплыми, мягкими,
пахнущими супом и любовью. Её глаза были красными, но улыбка — настоящей.
— Слушай меня внимательно, мой маленький. Ты не плохой. Ты мой красивый. Ты
просто... особенный. Чувствуешь больше, чем другие. Рисуешь на, собираешь
целые города из конструктора... Такой хороший послушный сын. Главное слушайся
маму.
Папа бы... он бы гордился. Если б вернулся.
Она встала, подошла сзади, расстегнула пуговички одну за другой — медленно,
нежно, напевая ту же песню про розы. Платье ослабло, стало свободнее, как
вздох. Она сняла его через голову, аккуратно как снимала с него пижаму в
детстве.
Сложила. Положила на диван, погладила, как живое.
— Если когда-нибудь захочешь ещё — скажи мне. Обещаю, я куплю тебе такое же.
Или другое — в горошек, как папа грозил на море. Или с чепчиком, как в садике,
чтобы ты был Волком-волшебником. И мы закроемся в комнате, задернем занавеску,
и ты будешь в нём сколько захочешь. Хоть весь вечер, пока я не вернусь с
работы. И я буду рядом — рисовать с тобой на стекле, если задержусь. И никто
никогда не узнает. Никто — ни бабушки, ни школа, ни этот дурак папа. Обещаю на
всю жизнь. Мы команда, Тёма. Только ты и я.
Артём смотрел на неё снизу вверх, и слёзы всё катились, но теперь они были
другими — очищающими, как дождь, смывающий рисунки с окна.
— Правда? — прошептал он, голос дрожал, как оборка. — Ты не уйдёшь? Как
папа?
— Правда. Никогда. Ты мой якорь, мой Волк, мой принц. Я люблю тебя любого. В
джинсах, в платье, в костюме бабушки, у окна с рисунками — любого. Ты — мой
мир.
Она обняла его снова, уже без платья, прижала к себе — голого по пояс,
уязвимого, но теперь защищённого её руками, её обещаниями. Он уткнулся носом в
её шею, вдохнул запах — дом, безопасность, вечность.
— А сейчас иди умойся. Я макароны переложу, а то остынут. И салат порежу — с
огурчиками, как ты любишь. А завтра... завтра в кино сходим, если премию
дадут. На "Красную Шапочку" — посмеёмся вместе.
Он пошёл в ванную — ноги ещё подкашивались, как после долгого стояния у окна.
Включил холодную воду, плеснул в лицо — брызги полетели, как конфетти. Смотрел
в зеркало, как красные пятна медленно сползают с щёк, как глаза становятся
нормальными, но внутри — ярче. Что-то изменилось — стало легче, как будто
тяжёлый камень, под которым он прятал рисунки, сняли с груди. Он улыбнулся
своему отражению — мальчику, Волку, принцу — и прошептал: "Спасибо,
мам".
.
Добавить комментарий
|

|
Маргинал 💥, 54 года
Санкт-Петербург, Россия
|
|
|
Пытался читать, но так и не осилил. Слишком много букв))
|
|

|
AlterMG, 36 лет
Орехово-Зуево, Россия
|
|
|
Интересно. Местами очень бесит и хочется допытаться у автора - что тут реально
из памяти, а что наслоенное, надуманное, даже навязанное автором самому себе
в поисках причин. Но интересно.
Вам бы живого редактора, конечно, чтобы, как минимум, ничего не пахнуло а
всё же пахло. Но это мелочи)
Спасибо за рассказ.
|
|

|
Варя Кроликова DDLG, 45 лет
Санкт-Петербург, Россия
|
|
|
Просто автор пытается кутать недопонятый самим стыд от сформировавшихся
потребностей в вуаль внешних причин. А стоило развить тему собственных эмоций и
чувств. Тот момент, когда спейс отгораживает тебя от проблем. В такие моменты
душа как будто смотрит на тебя со стороны и видит другого человека. С иным,
неясным еще путем. А эмоции и возбуждение накрывают эндорфинами и удовольствием.
Эффект рыбалки или поезда, когда ты в моменте ничего не обязан и не должен. Ты
девочка в платье. И пусть весь мир подождет....
|
|

|
Nik, 41 год
Москва, Россия
|
|
|
"Они жили в старой студии на пятом этаже"
После этой фразы читать дальше не стал.
Студия в пятиэтажке - ржу)
|
|

|
Варя Кроликова DDLG, 45 лет
Санкт-Петербург, Россия
|
|
|
почему бы у этого дома к примеру 15 этажей на пример?
|
|

|
Варя Кроликова DDLG, 45 лет
Санкт-Петербург, Россия
|
|
|
Фильм красная шапочка шел в кино в 22 и 78 году. Варя Холмс
|
|

|
Тишина, 50 лет
Москва, Россия
|
|
|
А без ии никак?
И без перевешивания ответственности на маму тоже неплохо бы обойтись
|
|

|
Маргинал 💥, 54 года
Санкт-Петербург, Россия
|
|
|
Варя Пидарасов, классное фото🤣🤣🤣
|
|
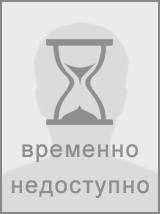
|
Карамель, 40 лет
Москва, Россия
|
|
|
Тишина - можно, а зачем? Просто одна из вариаций реальности, без пошлости
особой
|
