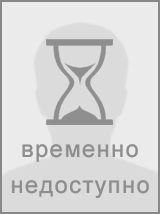В наступлении осени и одиноких выходных есть своя прелесть. С трудом вылезая из
сна серым утром, скользишь вялым взглядом по фикусу у окна, старинным
стеклянным бутылочкам на комоде, гипсовой фигурке пятидесятых годов - девушке,
которая уже полвека сидит мечтательно с книгой на коленях, и упираешься
взглядом в шелковый китайский зонтик.
Куришь утреннюю сигарету, стоя у окна. В батареях булькает вода, за окном в
парке шумят деревья. На улице пусто, какой-то инвалид ковыляет по дорожке под
дождем. За ним идет бездомная собака. Прижимаешься лбом к стеклу и бормочешь:
“Nel mezzo del cammin di nosta vita? mi ritrovari per una selva oscura? Злая
осень ворожит над нами, угрожает спелыми плодами, говорит вершинами с вершиной
и в глаза целует паутиной? Куда же вы ушли, мой маленькой креольчик, мой
смуглый принц с Антильских островов? Бля, как же все заебало”.
Посещает мысль: а не спуститься ли к ларьку, и не купить ли себе бутылку водки?
Но, вспомнив запах алкоголя, передергиваешься и решаешь что нет, боже упаси.
Не сварить ли кофею, не употребить ли его с булочкой и не поехать ли в гости?
Но лень и грустно. Остается один вариант - съесть немного фенобарбитала на
завтрак и залезть в горячую ванну с пеной. Дремлешь, пока вода не остынет.
Надеваешь белую пижамку, волосатые шерстяные носки, выдергиваешь телефонный
провод из розетки и, скрипя паркетом, ходишь по комнате вдоль книжных шкафов,
водя пальцем по корешкам и скользя глазами по давно знакомым названиям.
Мои любимые книги. Когда-то их было много, очень много. Я знала их всех в лицо
с раннего детства, я помнила пометки и капли чернил на каждой странице. Мои
бестолковые предки из битвы с большевиками, скитаний по Соловкам, Сибири и
Казахстану вынесли остатки благородной породы в лицах, нелюбовь к пролетариату
и томик Достоевского - “Записки из мертвого дома” 1894 года издания, приложение
к журналу “Нива”. Все остальное они успешно проебали в водовороте истории:
любовь к литературе не способствовала практичности.
Книги были со мной всю жизнь. Они лежали в горячем песке на берегу Финского
залива, где в голубом небе сверкали чайки, шумели сосны и яхты с белыми
парусами уплывали в море. Они оставались со мной на сиротских одеялах казенных
больниц и на черных шелковых простынях итальянской виллы, когда за окном
гнулись пальмы, шумело море, в стекло стучал средиземноморский дождь, а в
воздухе пахло Рождеством и апельсином. Их держали в руках те, кого я когда-то
любила, а теперь уже не помню их лиц. Они были со мной в стогах душистого сена,
когда вокруг цвел июль и солнце садилось за бескрайние русские поля. Они лежали
в мансарде на узком столике, рядом с баночками клубничного джема, и на них
равнодушно смотрели мокрые лондонские крыши.
Закладками им были карандаши, которыми я иногда ставила на полях едва заметные
Nota Bene, губная помада, билеты на самолет, фольга от сигарет, визитки,
конверты с моими именем, марками разных стран, Par Avion.
Был у меня ущербный томик Шопенгауэра; я называла его “подарочным изданием” за
то, что обложка была приклеена наоборот: верх перепутан с низом. Пассажиры
метрополитена удивлялись, когда сидящая напротив девица увлеченно читала
Шопенгауэра кверх ногами и делала пометки на полях. Книги всегда были со
мной.
Но несколько лет назад их не стало. Спастись удалось немногим. Глупая история.
Пока я шаталась по миру и училась жить, мои родственники тихо и незаметно сошли
с ума. Возможно, выбрав не самый худший вариант помешательства: они стали
фанатиками Православия. Квартиры наполнились иконами, лампадами и поучениями
каких-то подозрительных старцев и святых. Книги с православными крестами на
обложках потеснили на полках моих Светониев, Платонов, Ницше, Маркесов,
Петрарков и прочих. Я шаталась по чужим домам и студенческим общежития, возя с
собой то, что читала в данный момент.
Когда уже зеленел май и ветер стал теплым, мне сообщили новость. Родственнички
собрали все неправославные книги, погрузили в машину, увезли за город и
сожгли. Сложили большими кучами, облили бензином и сожгли мои книги. Сожгли
Лаоцзы, Гомера, Цицерона, Макиавелли, Вольтера, ущербного моего
Шопенгауэра, Гурджиева, весь Серебряный век и (надо полагать, с особым
удовольствием) собрание сочинений Карлито Кастанеды. Сожгли все цивилизации,
культуры, страны и континенты. Все мысли, чувства, восторги и вопросы, все
Nota Bene и засушенные цветы между страницами. Я плакала как дитятя. До сих пор
не знаю, чем провинился перед ними Корнелий Тацит.
В наступлении осени и фенобарбитале по утрам есть своя прелесть. Пройдя вдоль
книжных шкафов и ничего не выбрав, останавливаешься у окна, тупо смотришь в
серое небо и вслух в тишине достаешь из памяти слова: dolce color d’oriental
zaffiro che s’accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro?
Залезаешь в кровать под одеяло и вспоминаешь те кусочки из прочитанных книг,
которые отчего-то застряли в уже изрядно проторчанных мозгах. Почему из памяти
стерлось все остальное, а они остались? Хуй знает. Когда-то, видимо, они
показались мне ключами от дверей лабиринта, в котором мы плутаем всю
сознательную жизнь. Хотя, если присмотреться внимательно, то никаких
лабиринтов, дверей, ключей и нас самих, собственно, не существует. Некто в
белой пижаме засыпает барбитуратным сном без сновидений. Суббота. Утро.
Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - всё суета! Что пользы человеку
от всех его трудов, которыми он трудится под солнцем? Род проходит, и род
приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и
спешит к своему месту, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к
северу, кружится, кружится на своем ходу, и возвращается ветер на свои круги.
Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки
текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи - в труде: не может
человек пересказать всего; не насытится глаз зрением, не наполнится ухо
слушанием. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет
ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это
новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и
о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.