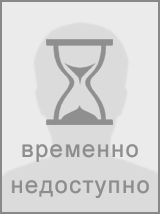Честно слямзеный с тырнету, шедевр юмора. Осторожно! Лексика для взрослых.
))
"""""""""
Мои родители, земля им пухом, были страстно увлеченные наукой люди. Такие
увлеченные, что не сильно заметили мое появление.
Да и само время тогда такое было – увлеченное – еще волновали полеты в космос,
поэты волновали все сильней, Высоцкий, оттепель давно сковало льдом – но все
«дышало», пусть и втуне.
И промозглой питерской зимой, в нашей квартире витал дух весны и
интеллектуального инакомыслия.
Задорно поглощенные наукой, предки не слишком занимались моим воспитанием, и
не особо переживали, что до четырех лет, я молчал как рыба. Только мычал,
ревел или пукал.
– Пес нямой, – ласково говорила мама, заправляя в меня пересоленную кашу.
– Немтырь, безъязыкий, принемывает, немта, немталой, и…брюква! – весело
добавлял папа от пишущей машинки, – трубка давно потухла, но увлеченный
работой он исправно затягивался.
– Тихий, – ласково резюмировала мама.
Родители были филологи и работали над сборником обсценной лексики и горячо
обсуждали непонятные мне слова и выражения, напрочь позабыв про магнитофон в
моей коробушке.
К четырем, я несмело заговорил, да так, что окружающие порой краснели до
истерических слез, а родителям было страх как неловко. Вскоре они уехали в
экспедицию, где и погибли в автокатастрофе.
Помню серый день, два кумачовых гроба, в их «праздничных» – белых
вместилищах – страшно незнакомые люди, но все же это они – папа и мама. Толпа
прячущих глаза молодых людей – друзей, коллег, гвоздики гвоздики гвоздики...
Ненавижу гвоздики.
Тогда я опять замолчал, на долгих два года. Как не билась со мною бабушка и
врачи, ничего не выходило – я просто не хотел говорить. В садик не ходил –
воспитывала бабка, в прошлом, сама учитель. Все понимал, – больше
сверстников, бегло читал, но – молчал.
– Витенька, ты говорил во сне, почему же ты молчишь? – часто плакала
бабушка.
Худшие годы жизни.
Я тосковал, часто перебирал родительские бумаги, читал – вспоминались их
споры, засыпал за столом с тихими слезами, положив голову на неудобную
печатную машинку.
В шесть с половиной, стараниями бабки (заслуженного педагога) меня определили в
специальный класс, – попросту УО, – к долбоебам. К первому сентября я заболел
ангиной, и бабушка привела меня в школу только к середине месяца.
Школа меня оглушила – у забора курили мужики в школьной форме, и стригли
школоту гнусными глазами, как стегали плеткой. Все бабье, начиная с четвертого
класса, было выебано и в бантики и в комсомольские значки.
На крыльцо втягивалась шумная толпа. Она скакала, кривлялась, орала и дралась
как стадо макак. Кого-то гвоздили ранцем по голове, кому-то срывали скальп за
косы.
В дверях образовалась пробка, которую жестокими пинками без разбору – девочка
ли, учитель начальных, сокрушил разящий табаком старшеклассник с карточкой
«всесоюзный розыск».
Бабушка как стреляный педагогикой воробей повременила быть убитой, и мы
обождали в сторонке.
Старуха глядела на деток, тихо улыбалась своим школьным воспоминаниям, а я
окаменел – это нормальные?! Тогда с кем светит грызть кирпичи букварей мне? С
фашистами? Я совсем забздел.
Класс УО размещался подальше от людских глаз – в тихом аппендиксе, по соседству
с библиотекой и кабинетом рисования.
Казалось, за дверью хуярит скотобойня – визги и рев стояли, будто под
двуручными пилами, театрально пагибало стадо свиней и один слон.
Бабка приоткрыла дверь, и у темечка сверкнул нож. Она захлопнула дверь и
сказала: – Учительница отошла.
Отошла! Я понял, – за страшной дверью скопытился педагог. Вернее его вусмерть
скопытили первоклашки. Мне вспомнились страшные похороны, затряслись ноги.
– Пиздец. – сказал я вдруг.
– Да, внучек. – согласилась бабушка, подбирая с пола смертоносный циркуль. –
Чего?!
Она так и всплеснула ридикюлем и чертежным струментом: – Заговорил!
Заговорил!
Трогательную сцену прервала целая и невредимая училка. Оправляла юбку, она
светила ободряющей улыбкой гробовщика.
– Как тебя зовут? – спросила она, и погладила меня по голове разящей табаком
ручищей, намозоленной, то ли указкой, то ли той самой пилой.
Я ее умилял – был я рус, причесан на пробор, глаза большие и голубые – хороший
мальчик, с острым девчачьим подбородком и пухлыми губами – с виду отличник и
книгочей.
Где червоточина, в чем гнусь в этом херувиме? – гадала она, сверля меня
испытующим взглядом лупастых глаз.
– Он немой. – неуверенно сказала растерянная бабушка, еще не веря в чудо.
– Аа… – промычала тетка, понимая, что я по адресу, несмотря на сусальный
портрет, – Так как его зовут?
– Ожегов, Даль… – неожиданно сказал я испуганно. – Обсценно…
Бабушка схватилась за сердце в нехорошем предчувствии, а училка сказал:
– Ссутся у нас все. Я буду звать тебя Миша. Миш у нас нет, а Даль – странно, и
дети не запомнят.
– Это Котлов Витя. – промямлила бабка.
Училка втолкнула меня в класс, захлопнула дверь и вышла проводить старуху и
заодно перекурить.
Я очень хорошо помню наш последний с папой и мамой Новый год, гостей в нашем
доме, застолье, хрип Высоцкого, задушевная гитара, споры, танцы, стихи и
опять Высоцкий.
Тут же – Первомай, пивная бочка, клифты и орущая гармошка, сразу ножик,
минуя споры, битые кружки и зубы под ногами.
Вот девочка крутится на месте как юла, к ней раз за разом норовит подступиться
хохочущий мальчик – получал по лицу, садится на пол, встает, и повторяет
попытку.
Из носу кровь и сопли, но он счастлив аттракционом, – упорный мальчик,
наверное будущий космонавт, трижды герой, или сборщик шариковых ручек –
ударник.
Двое с аппетитом хуярили промокашки и плевали в трубочку, метя друг в друга.
Они были меткие, эти двое, – лица обоих живописно заштрихованы целлюлозой,
один вылитый Кутузов.
Кто-то ковырял сопли, кто-то скакал веселым козлом по партам и подоконникам на
одной ножке, норовя её лишиться – а нога-то у прыгуна, и так одна-одинешенька
– последняя. И кажется понятно, как проебали первую.
Кто-то играл в слона, где-то выжигали – тщедушный долбоеб жег вязанку линеек,
а одна девочка кажется молилась. Чуть позже я узнаю – ее глаза с рождения
застряли у переносья, а из-за анемии зябли руки, и она их расцепляла лишь для
захавать перловки с канпотом.
Тут, застенчивым слоном подкрался здоровенный как свин мальчик в очках на
резинке, со стеклами от телескопа, и угрожающе хрипя слюнявым хайлом, то ли
спросил, то ли предостерег:
– Тхы кхто? Гхы.
Мне послышалось: «Хандэ хох!»
– Хуй в пальто. Варенай Мадамкин. – со страху представился я литературным
псевдонимом (папа любил меня так величать, когда я ссался).
Видимо, стресс запустил некие механизмы мозга – в голове так и мельтешили
слова. Папа и мама могли часами дискутировать по поводу своего научного труда,
а когда уставали, то отдыхали играя, – перекладывали «манда» на
вологодский и рязанский говор, – получалось ласковое «монда» или
зазывное, акающее «мандаа».
Или решали, имеет ли ёмкое «манда», право на множественное число,
как сакраментально сакральное «пизда». Они были увлеченные люди, а
у меня очень хорошая память.
– А я, Виталикхр. – страшно прохрипел заплывшим салом горлом урод, жадно глядя
на меня из-под очков.
Попробуйте-ка взглянуть из-под очков, не вздернув их на лоб – голова не
отламывается? Зато хорошо видно потолок.
Вот и Виталик, казалось, разглядывает потолок, на самом же деле, он
пристально изучал меня, и то и дело облизывался. Варан ебучий.
– Гавайх дружикрх. – прохаркал он, окончательно увлажнив меня слюной, – видимо
мариновал для размягчения плоти.
– Опиздоумел, козлоебина. Хууй. – процедил я, стараясь не выказать
испуга.
Ранимый людоед вдруг заплакал и съебался – залез под раковину, выдавив из
«домика» троицу одинаковых пацанов в девчячьих фартуках. Они подошли
ко мне и обступили.
– Новенькая. – пропищал один и с любопытством френолога пощупал меня за голову,
–опознал. – Мальчика.
– Расщеколда ебан рот. Геть отседа, мандавоши! – угрюмо сказал я. Вообще, я
хотел сказать – не бейте меня, ребята. Попытался загладить: – Пиздося
кисельная.
Они засмеялись счастливые и представились – Вика, Валя, Вера. Это были
девочки, похожие на тифозных, обритых мальчиков. Они повели меня
полуобморочного, знакомиться с остальными обитателями чумного барака.
Одноклассники меня обнюхивали, ощупывали, словно прицениваясь к будущему
визжалу – «Рано пороть, пущай прослойка завяжется», а одна
щекастая и вовсе отведала на зуб – целиком сунула мою ладошку себе в зоб – сразу
есть не стала, а продолжила рисовать войну – заглотила про запас короче, как
белка орех.
Во рту я нащупал пригоршню карамелек, ластик и, кажется даже ключ от дома. Еле
блядь вычвакнул – тварь еще и разревелась.
Я был исключительно подавлен. Если я здесь останусь, то сойду с ума, замкнусь,
а я только-только разговаривать начал. Я хотел жить!
Надо было отсюда выбираться.
Тут вернулась училка и объявила обед. Харчились УО после всей школы, чтобы не
портить детям аппетит. Сгуртовав нас подзатыльниками, училка погнала
рассыпающееся стадо на выпас.
Столовая средней школы после обеда – минное поле. Кто помнит – поймет. Это вам
не нынешний буфет с чипсами и шоколадками – это сука правильное питание из
первого, второго, третьего и кисель – есть где разгуляться ребячьей
фантазии.
Ну кто не получал по башке тефтелей в подливе и не поскальзывался на
киселе?
Учуяв манку, Виталикхр тревожно захрюкал и ломанулся к деликатесу. Старушка
хуярившая в тележку посуду, бросив в пизду катафалк, испарилась в моешную, в
кухне перестали брякать посудой.
– Смотрим, дети. – предупредила училка.
Урча, Виталик грузно перемахнул пару лавок, обрушил телегу и вступил в кисель
– хуяк! – задрожали стекла и мигнули лампы, в кабинете труда в ворохе стружек
всхрапнуло, и показалась опухшая морда в сивой щетине и берете – точь-в-точь
заматеревший с годами, до медно-красного Мурзилка.
– Идем, дети.
Мы дружно подняли выскальзывающего из рук, жадно облизывающегося Виталика.
В железных мисках резиновая манка. Из кухни посмеивались на нас жирные бабищи в
чепцах: «Кому добавки?»
Училка улыбалась в сторонке и кушала куриную ляжку. Я просто сидел и пырял кашу
ложкой – отскакивает.
Училка подкралась и отвесила звонкую затрещину: – Жри, урод.
В кухне одобрительно заржали: «Так яво, придурка! Каша яму вишь не
нравицца!»
И тут, меня прорвало плодами научной деятельности родителей покойничков:
– Микитишки отхуярю, недоёба блядовитая. Пиздуха червивая, хуёза грешная.
Мудорвань! – прокричал я, едва не плача от обиды.
Учительница первая моя, выронила из хавальника кусок курятины, – думаю, ее
сроду так не вышивали гладью. Страшно сопя, потащила к завучу.
В зеленом как ботанический сад кабинете, симпатичная тетка в золоте, уютно
кушала свежие пирожки с повидлом, вкусно запивая чаем из красивой чашки, и
была еще счастлива.
Задыхаясь от невозможности вырвать мне голубые глаза и сожрать, училка
пожаловалась:
– Этот…этот…Он матом, почище Фемистоклова (трудовик)! Вы бы слышали!
– Этот? – завуч недоверчиво оттопырила от румяного пирожка холеный мизинчик на
меня. – Так он же немой.
– Ща! Хуями кроет, что твои блиндажи!
– Прекратить! – хлопнула по столу завуч. – Что себе позволяете?! Вы советский
учитель!
– Ебанашка без напиздника. Размандить ее к хуям. Ебать в мохнатые жерновцы ету
трупёрду. – поддержал я симпатичную заведующего учебной частью.
Пирожок брякнулся в чай.
Не веря ушам, она вежливо переспросила:
– Что вы сказали?
– Ни хуюшечки, ни хуя…Феея…
– Что за фокусы? – только и смогла вымолвить она.
Опомнившись, приказала: – В медкабинет его!
Они потащили меня к медсестре – вдруг у меня солнечный удар от ламп дневного
освещения, или приступ эпилепсии, и я чего доброго подохну в стенах доброго и
вечного.
Сестра потрогала мой лоб и залупила глазные перепонки: – Нормальный.
Но у провожатых были такие лица, что она без слов свалила меня на кушетку и
смерила давление:
– Нормальное!
– Ебальное, на кожаном движке. – подтвердил я, и у девчонки заполыхали щеки,
а на месте грудной заглушки, выскочили под халатом два кукиша.
– Целкунчик очковского. Мандушку на стол, ваше словно, товарищ хуй!
Сестра упала в обморок. Слова кишели в башке, и хоть частью, смысл их был
скрыт, но я неуловимо понимал месседж, как теперь говорят.
– Трудовика, мигом! И к директору его! – приказала завуч моей класнухе, и
кинулась приводить в чувство медсестру.
Вошел запорошенный стружкой, «не смазанный» и злой трудовик
Фемистоклов:
– Этот? – кивнул он на меня, и подтянул сатиновые нарукавники.
– Этот.
Тогда он подошел и встряхнул меня, – в его карманах стеклянно звякнуло: –
Материшься?
– Ебанулся?
– Охуеть… – присвистнул трудовик.
– Охуенней видали. Подпиздник подбери.
– Только без рук! – воскликнула завуч, загораживая меня от порывистого,
«не смазанного» спросонок трудовика. – Ребенок сумасшедший! К
директору, только обыщите, вдруг у него гвоздь.
– Пиздолет. – опроверг я унизительную чепуху.
Трудовик с опаской ощупал меня.
– Хорош хуюжить, шмонандель.
Поволокли к главному. Тот тоже ел пирожки. Судя по аппетитному аромату, – с
мясом учащихся. Тут походу, все объедали детей.
Директор выслушал возбужденных коллег, разумеется не поверил, и ласково
спросил:
– Как тебя зовут, сынок?
– Хуй важный.
– Таак… Ведите его к военруку, пусть у себя держит, он на фронте штрафниками
командовал, а сами, срочно вызывайте родителей.
– Может и милицию? – спросила завуч.
Директор категорически развел руками: – Не будем марать честь школы. Мы его,
наверное исключим.
Я испугался – «наверное» меня не устраивало.
Надо было наверняка, и я собрал остатки сил: – Хуярь голомудый. Мохнатый станок
мандит тебе в …
Мне заткнули рот…
– Этот? – не поверил военрук.
Трудовик щелкнул в рыжий зуб: – Отвечаю, комиссар. Таакое, – он покрутил
головой, – пирожки черствеют. Ты к нему спиной не поворачивайся.
– Здорово, урченок. – сказал массивный и дружелюбный военрук. – Хошь автомат
помацать?
– Здравствуйте. Хочу.
– Ругался?
– Чуточку.
Он принес охуенную машину в мой рост.
– А патроны?
Военрук на это только крякнул и мудро погладил меня по голове: – Таким как ты,
патроны даже на фронте не давали.
Так меня выперли из школы. Я бросил дурить и вербально развязался, стараясь
избегать врожденного мата. Определился в соседнюю школу, в обычный класс. Там
тоже не поверили…
– Этот? – спросила завуч телефонную трубку, разглядывая меня с благонадежным
пробором. – Не путаете?
Кажется, я ее умилял…На столе румяные пирожки…
Алексей Болдырев
(С)